24 мая исполнится 80 лет со дня рождения Иосифа Бродского — самого популярного из русских поэтов второй половины XX века. Валерий Шубинский размышляет о том, как Бродский повлиял на русскую поэзию — и сохраняется ли сегодня ощущение его исключительности.

Когда сегодня размышляешь о том, что, собственно, было для моих сверстников главным в Иосифе Бродском в условном 1983 году, когда его имя звучало для нас боевым кличем и паролем, — вывод оказывается достаточно неожиданным.
Несомненно, мы восхищались стихами — у каждого притом были свои любимые, и, в общем, именно этот тип поэтики, основанный на сочетании строгости и «реальности» внешнего рисунка с тревожно-меланхолической, сновидческой «сдвинутостью», в наибольшей степени соответствовал ожиданиям эпохи (магический реализм ещё не стал общим местом и не коммерциализировался, или, точнее, мы ещё не знали о том, что это произошло). Конечно, нас привлекал интуитивно ощущаемый «несоветский» подход к советскому антропологическому опыту.
Но и хорошими стихами, и нетривиально написанными стихами мы всё же не были совсем обделены. Была и ещё одна важная деталь. Бродский демонстрировал и своим творчеством, и своим позиционированием по отношению к миру, что решительный уход за пределы смысловых и сенсуальных пространств, конституированных советской культурой, может не означать ни маргинальности, ни декадентской переутончённости, ни ущербности, ни дилетантизма.
Другими словами, эта поэзия — умная и трезвая, способная и уходить в метафизические выси, и обращаться к узнаваемо-человеческому, где «роз семейство на обшарпанных обоях сменилось целой рощею берёз», — создавала новую норму за пределами как официоза, так и либерального полуофициоза. Именно то, что смущало в поэзии Бродского уже семидесятников и что потом стало проблемой и для нас — её органическая мейнстримность, — и было тогда нужно и востребовано.
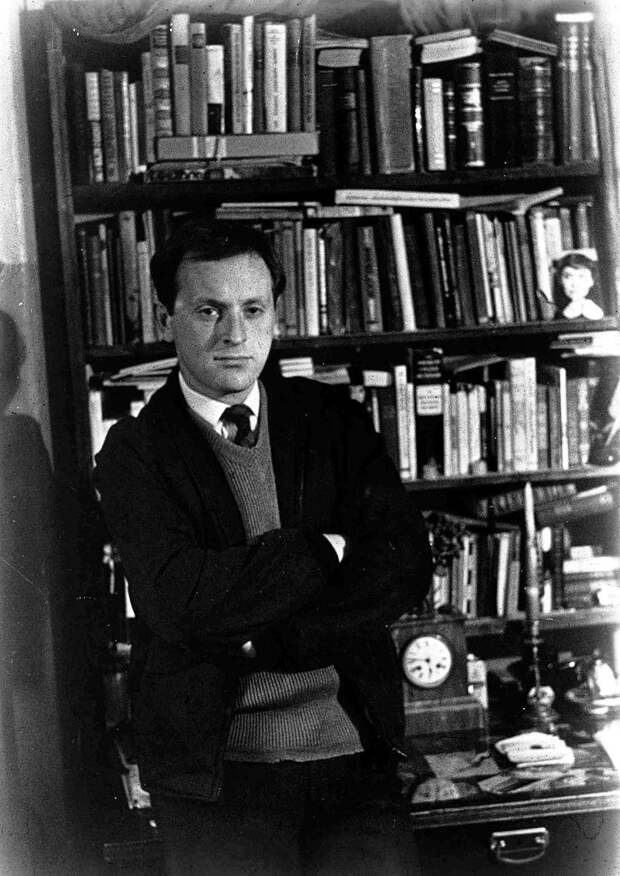
Потому что не знаю, как в Москве, а в величественном, заброшенном, сиротском, нежно-гнилостном лимбе-Ленинграде всё выглядело так: вот есть их мир, уже и не свирепый особо, но обессмыслившийся до отвращения, а притом тотальный, есть наш мир, который чем-то и хорош, да только совершенно неприспособлен для полноценной жизни… нет, конечно, маленький двойной кофе в «Сайгоне» варят, портвейн с 11 до 19 продают, и «Лолита» в самиздате курсирует, и «Форель» можно хоть два часа листать в «Букинисте» на Литейном, и даже удаётся, полежав в психбольнице, получить освобождение от армии, а потом закончить курсы кочегаров и устроиться в котельную, но, но, но… Бродский не претендовал на Большой Стиль, но естественно создавал его. Он давал уверенность в том, что наша внутренняя жизнь, наши чувства и мысли, книги, которые мы читаем, воздух, которым мы дышим, — это и есть самое главное, что сейчас происходит в этой стране и в этом языке. Так, между прочим, и было.
Другими словами, он давал нам то, что, по идее, должен был, но не мог дать советскому государству и советской жизни, ибо он и был тем поэтом, тем эпиком и реалистом, которого это государство и эта жизнь воспитывали и ждали. Но уж такое это было государство и общество, систематически отвергавшее всё, что могло его спасти. Собственно, об этом можно бы даже пожалеть, не о государстве этом грёбаном, сдохло — туда ему и дорога, а о родителях наших, советских людях, чьим поэтом Бродский мог стать. А стал — нашим, молодых аутсайдеров.
При этом воздействие собственно творческой практики Бродского шло совершенно отдельно. Примечательно, например, что Олег Юрьев , для которого в 1981–1983 годах (а может быть, и раньше) так важна была моральная опора на опыт Бродского, который противопоставлял его как Сосноре с его слишком напористым, «насильническим» отношением к реальности, так и второму поколению андеграунда (мы были третьим поколением и силою вещей спорили с непосредственными предшественниками, чтобы впоследствии осознать своё с ними единство), совершенно не испытал прямого влияния Бродского в стихах, даже совсем ранних. Я-то испытал, и до сих пор стыдно вспомнить иные строки («на рубеже октября обессилевшая природа, не способная больше любить и зачать, смотрит в себя и видит часть огорода, стадо гусей и полусгнившую гать….» — мне было восемнадцать, я написал не более десятка таких опусов, но это, конечно, не оправдание). Потом пришлось разучиваться этим легко дающимся ходам, а кто не разучился (потому что нечем было их заменить), тот убедил себя, что разучился, но знает, что это не так, и ненавидит Бродского. А кто разучился, тот любит.
Любит, но любовь эта непроста.
Ибо то, что казалось и выглядело «нормой», распадается.

И собственно литературно: становится очевидно, что наряду с собственно Бродским есть ещё «ранний Бродский», и даже два «ранних Бродских» (до 1960-го — неплохой поэт-шестидесятник, ученик Слуцкого, в 1960–1962-м — возвышенный и самозабвенный лирик, наследник и «молодой хозяин» обобщённой символистско-акмеистической вселенной, получивший ключ от неё на комаровской даче). Да и зрелый Бродский настолько многообразен, что любовь к одному его полюсу почти предусматривает отторжение от другого. (Скажем, у меня сводит скулы от однообразного элегически-метафизического многословия иных стихов, написанных в Норенской , — таких как «Северная почта».) Притом на каждом этапе и в каждом аспекте есть то, что слишком легко воспроизводимо, — будь то возвышенно-меланхолическая интонация «Большой элегии Джону Донну», с которой при случае отлично управляется, ну, скажем, Быков, или анжамбеманы «Части речи», которые (в сочетании с фирменной «аналитической» лексикой) позволяют выразить практически всё: от православной духовности до украинского патриотизма или любовных переживаний героини телесериала.
И идеологически: рядом с традиционным образом «русофобствующего западника» выстраивается противоположный — «городского парня», приникающего под Архангельском к народу (собственно, это не такое уж насилие над реальностью — возможность такой интерпретации приходила мне в голову ещё треть века назад), или имперца (и опять же: имперцу Третьего Рима, любующемуся маршалом Жуковым и не уважающему независимость Украины, противостоит имперец американский, рвущийся давать стратегические советы Госдепартаменту). Во всех своих аспектах Бродский, однако, не вполне соответствует интеллигентски-гуманистической парадигме (вообще он по-шестидесятнически груб, неполиткорректен, может залезть к барышне под юбку или пошутить на темы расовых отношений).

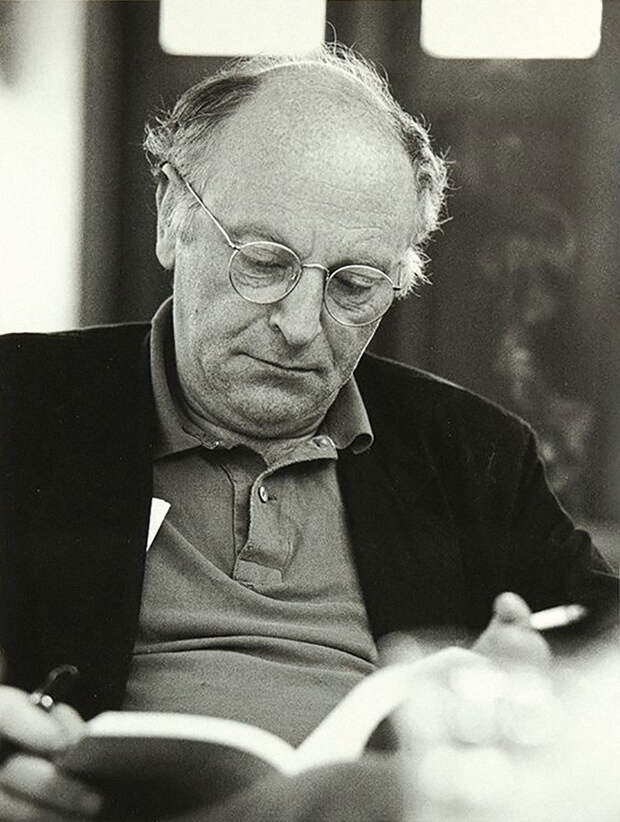
Да и в основе миросозерцание Бродского если не настолько властно по отношению к вещам и людям, как у Сосноры, то, во всяком случае, далеко от диалогических отношений с вещами и людьми. Его идеал — не «остановленное мгновение», а победа над миром через вечное движение мимо него, не обретение объектом сущности/cубъектности, а превращение всего окружающего в вещь, пейзажа — в натюрморт, твари — в мрамор или металл. И да, великая поэзия может быть и такой — но далеко не в первую очередь такой. То есть всё это — вариант позиции поэта, вариант положения поэта в мире, но не базовый вариант, не норма, а если не инверсия, то в лучшем случае вариант нормы. Другими словами, Бродский — не Пушкин сегодня. Он, собственно, особо и не скрывает, что трагический рационалист Баратынский ему милее Пушкина. Пушкина сегодня и нет — а значит, и нормы нет. Есть лишь частные варианты поэтического поведения, среди которых нет эталонного.
Когда говорят про «исчезновение великих поэтов», имеют в виду именно это. Грубо говоря, невозможен не только Пушкин, но и «Блок» (то есть не собственно Блок, а феи с Невского, именующие себя Незнакомками и предлагающие клиентам ознакомиться). Невозможна Ахматова (не стихи Ахматовой, а опальная знаменитость, мерящаяся популярностью со своей подругой Раневской и жалующаяся — «дескать, у меня тоже есть свои Мули»). Невозможен поэт как авторитетная социальная особа, как поставщик эмоционального и поведенческого эталона — но так же невозможен он как эталон эстетический, в зависимости от которого (или в отталкивании от которого) выстраивается поэтика и самопозиционирование современников. Грубо говоря, Блок невозможен, а Мандельштам, Анненский, Кузмин возможны. В этом смысле — да, мы любим и читаем Бродского наравне с Аронзоном (которого противопоставляли ему в кругу Кривулина и Шварц — а мы просто читаем их по очереди), наравне с той же Шварц, с тем же Соснорой, а кто-то наравне с Всеволодом Некрасовым и Сапгиром , а кто-то наравне с Айги . Никто из них не «главный», а если главный — то лишь для конкретного читателя.


И ещё один важный аспект — мировой контекст. В своё время Бродский был одной из фигур, включавших русскую поэзию в этот контекст, связывавших её с англоязычным миром, который по определению воспринимался как «самый главный». Но уже на рубеже веков статус Бродского внутри поэтической мировой культуры был подвергнут сомнению — чему способствовали и дошедшие до отечества скептические отзывы американцев об англоязычных стихах и автопереводах нобелиата. Для многих Бродский, якобы «вошедший в круг эпигонов Одена, эстетических консерваторов», стал символом «отсталости» русской поэзии, держащейся за силлабо-тоническую просодию и раннемодернистскую эстетику. На самом деле поэзия Бродского в иных отношениях стадиально более позднее явление, чем поэзия, к примеру, Целана, героически пытающегося по ту сторону Освенцима (что для него было куда меньшей абстракцией, чем для кого многих) продолжать линию высокого модернизма, немецкого и отчасти русского. Бродский, впитавший эту традицию смолоду, увидел в итоге лишь одну возможность её симбиоза с опытом послевоенного «городского парня» — через стилизацию (единственное, что действительно сближает его с Оденом), через миф о грядущей бессмертной Империи, следующей за современностью, мощной, как рейгановская Америка, нелепой и гниющей, как брежневский СССР, одновременно и величественной, и смешной. В сущности, поэтика зрелого и особенно совсем позднего Бродского — это псевдоклассический постмодерн, ещё несущий черты модернистского драматизма, но разлагающий, глушащий их. И признать именно этот путь главным, магистральным, нормальным — приемлемо далеко не для всех.
В итоге Бродского как символа «нормы», мейнстрима в высоком смысле, «средней линии» больше нет, — во всяком случае, для меня. Остаётся один из нескольких десятков первоклассных русских поэтов. В конце концов, «Письма римскому другу» или «Осенний крик ястреба» никто никогда не отменит. Но в дополнение к этим прекрасным стихам останется и память о той роли, которую Бродский однажды сумел сыграть в культуре. Пусть это в прошлом, но это было — и это важно.
Свежие комментарии